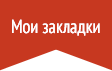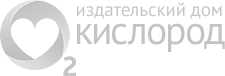Есть ли онтология в антологии?

Алексей Шепелёв об утреннем закате поколения "У"
Недавно в книжном магазине «Буквоед на Восстания» прошла презентация 4-го выпуска «Антологии прозы двадцатилетних» (см. рецензию в «НГ-EL» от 08.09.11), выпущенного издательством «Лимбус Пресс». С одним из ее участников, автором повести «Утренний закат» Алексеем А. ШЕПЕЛЁВЫМ побеседовала Анна КРОЛИК.
– Алексей, на презентации ваше чтение отрывка произвело большое впечатление. Я была и на других ваших выступлениях, там было, как говорится, еще круче, еще более драйвово. Театрализация – это сознательная стратегия?
– Спасибо. Нынче повсюду так заведено, что авторы читают невыразительно, а то и невнятно – «типа мы не в школе», и это понятно. Я же «ностальгирую» по тем временам, когда авторское чтение прозаиков было гвоздем программы, событием – большие отрывки своих романов или вещи поменьше читали при большом стечении публики Достоевский, Тургенев… В советской литературе эта традиция развивалась как в официозе, так и в подпольных чтениях вроде описанных у Мамлеева. А что уж говорить о стихах, о начале ХХ века, о футуристах и обэриутах!.. Эту культуру нам отчасти привил Сергей Бирюков, поэт-заумник, разработавший собственную систему чтения. На своем примере он показал воочию, как можно – и нужно! – работать со звуком на уровне не только слова и фразы, но и морфемы, фонемы, на стыке слов и смыслов. Впрочем, интуитивно меня подобное занимало уже с детства, а с конца 90-х годов под эгидой своего объединения «Общество Зрелища» мы сами выпускаем различные аудиоспектакли в стиле «дебилизм» – сие, наверно, и впрямь мало на что похоже, мое чтение – это только так, отголоски…
К сожалению, и сами современные авторы, и организаторы мероприятий никак не стремятся «к возрождению забытого жанра». Хотя у публики – даже широкой – потребность в таковом виде творчества определенно есть: взять хотя бы бесконечные юмористическо-эстрадные шоу на ТВ, так называемый разговорный жанр и скетчи. Естественно, сейчас они тотально выродились, превратившись в мерзостную профанацию того, что обозначали эти понятия в советское время. Родионов известен, Виктор Iванiв читает свои стихи метафизически проникновенно, а вот с прозаиками дело, кажется, намного хуже. Тем не менее аудитория большая, и, на мой взгляд, люди искушенные тоже не против, «чтобы встреча с живым автором была интересной».
– Вы читали тексты других пяти авторов, вошедших в антологию. Как они вам, как оцениваете концепцию сборника, по-моему, ваша повесть в некотором смысле все же в него вписывается...
– Со смешанными чувствами я приступил к чтению, можно сказать, вынужденно. И прочел я ровно то, что и ожидал.
Самое большое затруднение у меня вызвала, извините, своя повесть – даже не смог дочитать! Настолько гнетущая атмосфера безысходности, одиночества, основная тема – равнодушие, онтологический (психологический, социальный, антропологический, цивилизационный) тупик. Вариант названия – «Героиновый Гитлер». Три кита топики (обозначенные в тексте): «Наркотики, насилие, нацизм – что там дальше по словарю?..» – три красных тряпки, жупела для обывателя.
В моем субъективном восприятии все вещи сборника показались как бы подводкой (кажется, термин телевизионщиков) к «Утреннему закату».
Почему-то наиболее меня задела повесть Никиты Епифанцева, в коей изображено молодежно-богемное бытие красавца-бисексуала. Баловни судьбы, богатые, свободные люди, интеллектуалы – казалось бы, что может быть соблазнительнее? Но все это лишь поза, позерство, «слова и жесты» (название повести), авторское отношение не прописано, что он стебется как-то непонятно. Есть такой Олег Сивун с «поп-арт-романом» «Брэнд», напечатанном в «Новом мире», – мало того, что это никакой не роман, герой пытается критиковать Систему, сам являясь ее шпунтиком, на каждом шагу запинаясь о свой восторг от причастности Ей! Вот «Дневник Бриджит Джонс» – другое дело! Ницшеанство и интеллектуализм, на мой вкус, тоже весьма сомнительны. Тут обычным айнрэндизмом пахнет. Богатенькие герои подкатывают к гламурному клубу на такси, и водитель, получая плату, смотрит на них с ненавистью (перифраз пелевинского «Под Кандагаром было круче!»), а у них, соответственно, нет жалости к таким, как он. И это вполне себе серьезно возносится на щит! Я бы с «вершин» своей биографии сказал автору (на презентации его не было), что тоже смотрю на такого шофера с классовой ненавистью, но как бы снизу вверх – у меня нет и такого дохода, но кто такой Деррида, я тоже знаю. Хотя и понаслышке…
Нацизм у Епифанцева пару раз бегло упоминается. Сексуальная перверсия дана как само по себе разумеющееся, без рефлексии. В финале, который отчего-то так понравился Вадиму Левенталю, предвосхищена – как бы в миниатюрном масштабе, без глобальности и апокалепсичности – ситуация «Утреннего заката». Как будто первое появление мотива, специальное совпадение (только непонятно, как герои Епифанцева попали на взлетную полосу, коли уж их, таких ВИПов, не пускали в родной клубешник с бутылкой шампанского!).
Повесть Алены Бондаревой «Танец Анитры» вполне сгодилась бы для толстых журналов или форума молписов РФ, там такому дан полный ход. А вот ее коллега, Виктория Аминова, хотя стилистически в той же стезе, и у нее тоже «трогательная и проникновенная история любви», но тут налицо чаемая нами сексуальная раскованность поколения Y, и то, что описано, в двух словах определить можно пугающим термином вроде «лесбо-геронтофилия». Плюс еврейские анекдоты, идущие хоть от Улицкой. Имя героини и название повести («Зяма») в статьях возводят к Софье Парнох (не путать с порнухой!) и Зиновию Когородскому, тогда как есть еще более известный Зяма – Зиновий Гердт; тут опус автора, который вроде бы по профессии театральный критик, инертекстуально провисает.
Рассказы Никиты Залётова «Пепельный снег» и рассказы Вадима Левенталя «Лапа Бога» и «Одиннадцатый храм» хороши именно как рассказы, здесь есть необходимые для короткой прозы композиция и концовка. Залётов, видно, что делает первые шаги; тексты Левенталя добротны и сконцентрированы, написаны не «корявой, как выкорчеванный пень» лапой, как в рассказе (Бога или дьявола, гадайте сами), а твердой рукой редактора и стилизатора (на презентации он читал новую вещь а-ля Лавкрафт!). Они-то в качестве некоего приятного сюрприза или бонуса и выбиваются из сборника – ни тебе секса, ни наркотиков, только намек на ретророк-н-ролл (в стиле Лескова, Толстого или отчасти даже Бунина). Но как говаривал нам на семинаре Леонид Юзефович: «Ухватиться за хвост классика – не такая уж трудная задача, и дальше можно валять километрами». Надеюсь, Вадим Левенталь это понимает.
У всех тема равнодушия, распада микросоциума, равнодушия, которое характерно именно для нашего времени, раньше никогда такого не было. Раз Бог умер, можно не здороваться с соседями (об этой привычке жителей мегаполиса упоминает Бондарева). Но я беру эту ситуацию как бы в чистом виде – ведь если зреть в корень, дело идет о влиянии (или о некой искаженной проекции такового) западноевропейской цивилизации. Действие «Утреннего заката» происходит в Германии 2000-х годов, героиня полька, опять же ретроспекция в некую «точку зеро» европейской истории – в бункер поверженного фюрера, классический пир во время чумы. Вообще для меня эта повесть нехарактерна – обычно у меня автобиографичный экскурс в наши родные, метафизически-русские трущобы и грезы. Но в антологию она, повторяю, как бы как раз вписалась…
У всех авторов герои живут настоящим моментом, это тривиально, но симптоматично. У всех протагонистов почти дословно одно и то же кредо. Иваны, не помнящие родства. (Только в текстах Левенталя сделана попытка восстановить историю – и личную, и надличную, даже миф.) «Только под воздействием наркотиков или чрезвычайных обстоятельств» начинает ценить жизнь, ощущение «здесь и сейчас» герой «Пепельного снега». Наркотики для него – «аттракцион». «Меня почему-то от этого слова сразу передергивает. Брррр… (С четырьмя «р» – попробуйте произнести! – А.К.) Вообще сразу в голове какие-то волны начинаются. «Наркотики». Брррр…» – вот в том же произведении и перекличка с «Утренним закатом». И у Бондаревой: «Люди, как известно, избегают вещей с пометкой «слишком». Слишком новый, слишком скучный, слишком значимый – подобное выглядит пугающе». Собратья по перу не пишут откровенных эротических сцен, не описывают наркотрипов. (Я, почитав немного классиков жанра типа Бэрроуза, разочаровался, что никто не описал ощущений изнутри – «чтобы человеку не надо было пробовать», достаточно было б прочесть. Может быть, лишь у Михаила Овчинникова из данной темы кое-что органично передано.) «О том, как наступает чудовищная тьма…» – здесь резко бросает газ автор «Слов и жестов», а я только разгоняюсь. В «Зяме» пролог сапфической темы, которая у меня обозначена и в этой повести, и еще более сильно прописана в других произведениях. Но у меня именно эта составляющая метаромана – не рассказ или отчет о событиях, а эстетика, концепт, прием. И наконец, от Левенталя тянется к нашей вещи (если уж все же принялись читать сборник как единую книгу) мотив богоискательства, приводящий в конце повести к описанию зловещего заката, апокалипсиса, где открытость концовки в том, чтобы понять, личный он или же всеобщий.
– Согласны ли вы с формулировкой рецензии Татьяны Григорьевой, что участники антологии «не умеют создавать другую реальность»? Как, по-вашему, критик вообще может адекватно воспринять ваш текст, вынести вердикт?
– В данном конкретном случае рецензент все правильно увидела. Здесь все налицо. (Себя я вот сам широко разрекламировал…) От критики я не жду откровения для себя, хорошо, когда хотя бы более-менее верное восприятие. Хотя я вот сам, когда пишу рецензии, имею пред собой трех адресатов: читателей, критиков (в меньшей степени) и автора произведения.
– Вы журите тех, кто с вами под одной обложкой, слегка свысока, как старший товарищ. Как вы попали в антологию двадцатилетних, вы же немного старше, и автор уже далеко не начинающий, изданы два романа и две книги стихов, на роман Maxximum exxtremum было много отзывов в прессе, расскажите историю публикации и, может быть, историю создания повести.
– Критики писали, что «Шепелёв настолько стоит на особицу… что издаться ему трудно», о забвении меня как автора (первый роман вышел восемь лет назад, второй – в начале этого года), о повторном дебюте. Поэтому для меня действительно публикация в такой антологии не зазорна. Она почти чудесна: я сдал свой текст (правда, другую повесть, «Дью с Берковой») для 4-й антологии еще в 2006-м!.. Составлял тогда Сергей Коровин, и на вопросы, что так долго, Павел Крусанов смеясь отвечал: «Единственное, что Сергей Иванович делает быстро, это подсечка леща!»
В 1998 году я нашел на помойке номер журнала «Молодая гвардия» за 1991 год. Жили мы очень скудно, книг у нас не водилось. И тут я вижу – роман-хроника «Черная ночь», такой анализ биографии Гитлера, автор – Николай Вирта, в Тамбове мы ходили по улице его имени, но кто это такой, я точно не знал. Потом в этом же году уезжал в Германию Бирюков и отдавал нам целые горы старых книг и журналов. Я, конечно, сразу заприметил всю подборку «Гвардии» с хроникой. Произведение так себе, но меня сильно потряс эпизод в бункере перед самоубийством Гитлера и Евы Браун. Изначально я хотел написать роман, но на него у меня в то время элементарно не хватило материала. Не было ни книг, ни Интернета. Пришлось цитировать что-то по памяти, по сомнительным журналам и телепередачам, да и просто создавать откровенную псевдоисторию. Суть там не в подробностях.
Повесть была написана быстро, в 2003 году. Быстро – не значит левой пяткой (так, в произведениях участников антологии много опечаток, что свидетельствует о молодой авторской небрежности, непонятно тоже, что делала корректор – полумифическая «Т.Самсонова»; а для Епифанцева вообще характерен некий «авторский» знак препинания – многоточие после пробела). После я увидел немецкий фильм «Бункер» (2004, до этого видел сокуровский «Молох»), прочитал роман «Лесной замок» (2007, опубликован на русском в 2008-м) – нечто среднее между этими произведениями хотел изобразить и я. Если уж обращаться к кино, то еще здесь подойдет сравнение (весьма условное, конечно) с двумя последними фильмами фон Триера. У нас, кстати, в единственном клипе «ОЗ», текст из коего как раз исполняется в финале повести, видеоряд заканчивается разрушением, «попранием» символического шалаша из перекрестья нескольких палок, один в один, как в концовке «Меланхолии», только там такое «здание, олицетворяющее человеческую деятельность и сущность», возводится для некой метафизической защиты от апокалипсиса, а у нас, увы, добровольно рушится… наверное, русское юродство. В итоге (в «Утреннем закате») вышло же нечто более по-импрессионистски рваное, хотя вроде бы и с художественной реальностью, и со смыслом, судить не мне.
Интервью опубликовано в НГ Еx Libris.
Поделиться публикацией: